-14 °С
Облачно
Все новости
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
26 Февраля 2020, 18:55
Вахит Хызыров: «Как Ахмадулла Султанов из Берлина картошку привез»
Предлагаем читателям очередные отрывки из книги Вахита Хызырова «В деревне так...». Напомним, Народный артист Башкортостана Вахит Хызыров, внук фронтовиков, погибших на полях сражений, посвятил им рассказы и к 75-летию Великой Победы готовит новую программу военных песен.
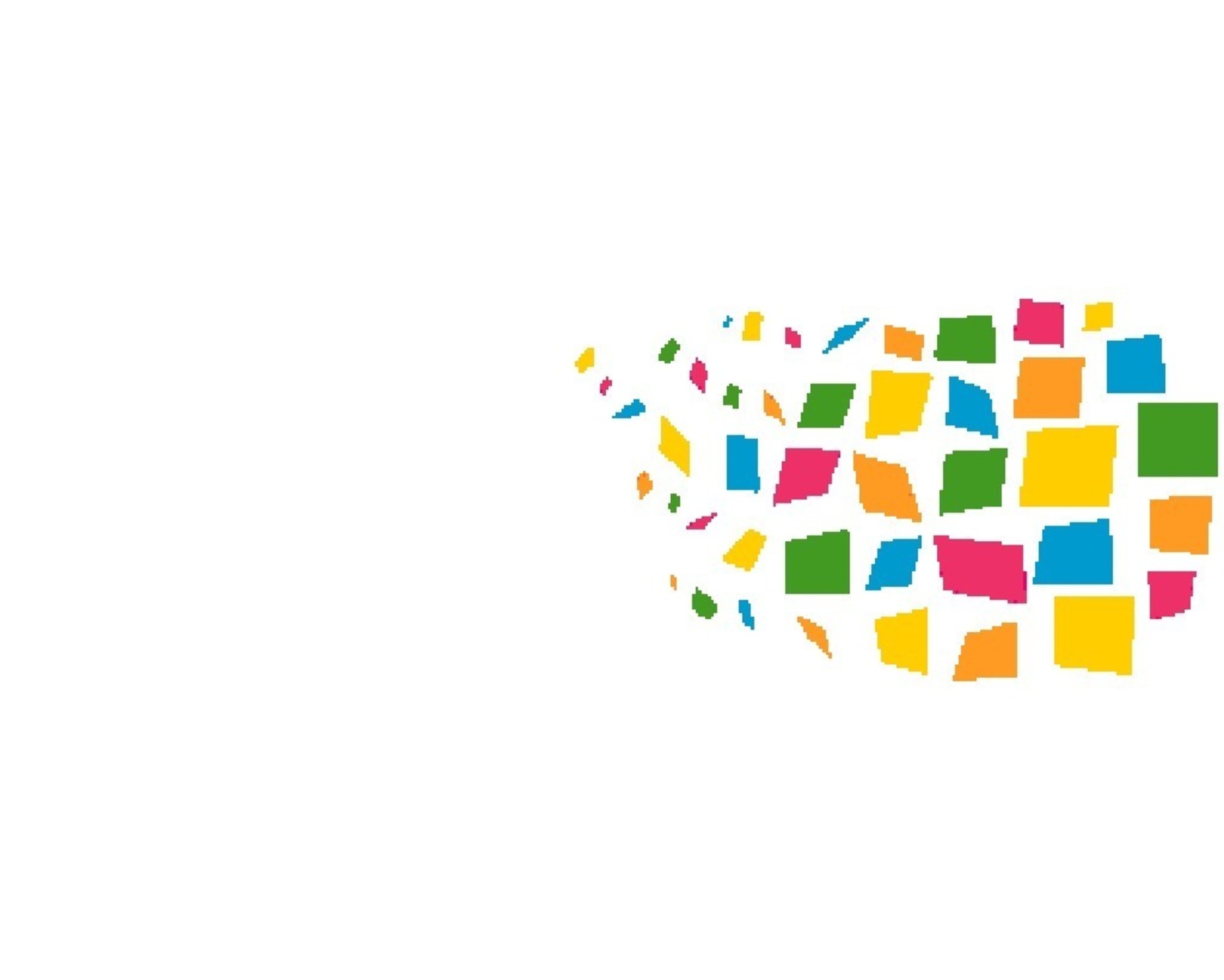
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ – МОЙ ДЕД АХМАДУЛЛА
Там, в Германии, теплее, чем у нас на Урале. Пройдя с боями всю Европу, подразделение деда моего уже находилось под Берлином. «Мы знали, – говорил дедушка, – что победим и вот-вот падёт Германия». И тем больнее были потери сослуживцев. Обидно было, когда погибали наши бойцы по глупости, по излишней торопливости командиров. Несмотря на потери друзей, на увиденные под Сталинградом и в Белоруссии зверства фашистов, дед сумел сохранить в сердце человеческую доброту...
Война для деда моего закончилась в Берлине. Было непривычно тихо. Странно было слышать и негромкий разговор, и звуки гармошки... Привычно было: разведка, бой, окопы, пулемет «Максим», перевязки, каша, кровь, потеря друзей... И вдруг всё это закончилось. Надо было снова учиться мирной жизни.
Разрешили брать трофеи. Дед с удивлением вспоминал, что один из его товарищей, который был шофером на полуторке, загрузил целую машину матрацев. Другой набил вещмешок наручными часами, еще один взял большой тюк ткани... Дед вспоминал, как ночевать остались на окраине Берлина. Вечером выпили спирта, закусывая сухим пайком 2-го фронта. Утром, выходя во двор, увидел, как две женщины и маленький пацан-немец сажали картошку в небольшом садике. Руки деда истосковались по земле.Он помог женщинам досадить картошку, а после жестами попросил дать ему этой картошки с собой на семена. Так мой дед привёз с войны целый вещмешок семенной картошки-американки (так он её называл).
Его, израненного, ждали в деревне. Из более полусотни человек, ушедших на фронт, вернулись пятеро. Я их всех запомнил. Один был танкист, лицо было обожженное, как после оспы. Другой пришел на костылях, без одной ноги. Магафуров Гыймадый, Набиуллин Калимулла, Астангалин Магадей, Шарипов Мухамедьян и мой дед Ахмадулла.
Ко Дню Победы они собирались возле обелиска в центре деревни. В то время в магазине продавалось разливное вино из железной бочки. Ветераны покупали ведро вина, а на закуску был хлеб, яйца, лук, варенье. Пили это вино из алюминиевых кружек. Дед давал мне попробовать на вкус это душистое вино. А потом они пели в основном на русском языке, песни были военные, революционные. Допивали, и не прощаясь, шли сами своими ногами в свои дома. И я шел с дедом, держась крепко за мизинец его руки.
Мы знали, что обязательно дома деда отругает бабушка Вафия. Она всегда его ругала за всё: за то, что посмотрел налево или направо, за то, что шагает медленно, что храпит, что дверь не так закрыл, что радио громко включил, что печку долго топит, что кашляет, что много молчит. Дед не спорил, молча всё выслушивал, поперек не говорил ни одного слова. Даже моя мама, падчерица дедушки, часто высказывала бабушке, зачем она так ругает агая. Так принято было говорить – агая, то есть брата. Ведь после гибели на фронте своего брата, дед Ахмадулла после войны женился на его жене. У башкир так положено было, чтобы не оставлять сиротами его детей и жену. И они не были сиротами. Больше, чем своих детей, дед Ахмадулла любил старшую дочь брата Фарзану и Аклиму, мою маму. А во внуках й внучках он вообще души не чаял. Так и говорил нам: «Сэскэлэрэм» – «цветочки мои».
С моей вредной бабушкой они родили и вырастили еще троих детей – дочку и двух сыновей. Зимой и особенно летом мы часто гостили у деда. У них был большой огород, половина которого была засажена американкой. Крупная, красная, толстокорая. Стебли у нее до полутора метров, листочки светло-зеленые. Мучением было окучивать её, если опоздаешь на неделю или на две. По доброте душевной и дед, и мама моя всем давали эту картошку на семена. Дораздавались. Через несколько лет «американка» выродилась.
Летом дед брал меня с собой на сбор малины и земляники. Шли до берега реки. Тут дед раздевался. Я гордо сидел на нём с пятилитровым бидончиком в руках и дедовыми штанами и рубашкой. Он переходил вброд глубокую тогда реку, а свои кирзовые сапоги заранее перекидывал на другой берег. Перейдя, дед вытирался своими портянками и закуривал самокрутку. Любил, как маленький, играть со мной. «Вон, вон большая ягодка», говорил он, указывая в сторону своим кривым указательным пальцем. Я: «Где?». Он: «Дальше, правее». И пока я искал, он, ползая на четвереньках, быстро собирал ягоды растопыренной пятернёй. Сам смеется, заливается. Потом смех переходил в сип, а потом в добротный мокрый кашель. «Тьфу, твой мат!» Повернув голову направо, сплёвывал, вытирал глаза. И дальше собирал ягодки. По тому же маршруту мы шли обратно. Сидя на его могучих плечах до самого дома, я съедал ягодки по горлышко бидончика. Он меня никогда за это не ругал.
А варенье бабушка варила очень вкусное – земляничное, смородиновое, малиновое. Но на стол его бабушка ставила только по праздникам или когда приходили гости. А так кушали вприкуску комковой сахар, который дед умело колол на ладони своей левой руки тупой стороной самодельного ножа на мелкие кусочки. А бабушка раздавала их по штучке каждому Дед свою долю сахара никогда не доедал, и бабушка тотчас же убирала его, завернув в газетку, в буфет, сделанный самим дедом. В следующий раз во время чаепития этот кусочек отдавали снова деду, и он с хрустом дробил его остатками коренных зубов, а не макал сахар в чай.
Дед очень любил пряники, которые он называл по-своему – «браники». После каждой пенсии он ездил на автобусе в Магнитогорск, а по нашему – просто в город, и возвращался с полной тряпичной сумкой пряников. В кармане его брюк, синего халата для фермы, фуфайки вместе с махоркой и спичками всегда были пряники. А когда мы приходили к нему в гости, он доставал пряники из карманов, из сумки, и бросал их на урындык. Пряники падали и на пол, и под стол, под стулья. Мы их быстро собирали и кушали. А дед радостно смеялся: «Нате, ешьте, мне не жалко».
Курил он махорку дома около печки, приоткрыв вьюшку. Он садился напротив открытой печной дверцы, доставал из нагрудного кармана заранее сложенную аккуратными прямоугольниками газету и как-то быстро натренированными пальцами создавал нечто трубообразное, засыпал внутрь махорку, обслюнявливал край газеты, ещё досыпал махорки и закуривал. Хотя дым засасывало в печку, но в доме всё же пахло куревом. После очередной затяжки дед снова кашлял, в груди у него синело и булькало. Напоследок, откашлявшись, он сплевывал на костёр с неизменным «твоймат». Я всегда сидел у печки рядом с дедом.
Как-то отцу в конторе сказали, что деду Ахмадулле надо обязательно быть на митинге в честь Дня Победы. Папа посмотрел на меня. Я сказал: «Понял» и побежал на остановку. Не дождавшись попутки, я побежал в соседнюю деревню Елембетово вдоль пшеничного поля и асфальта. Дед с вредной бабушкой как раз были дома. Он побрился безопасной бритвой, надел чистую фланелевую рубашку, застегнув все пуговицы до горла, надел широкие, как галифе, штаны. Заправил портянки в парадные кирзовые сапоги. Его пиджак с плеч до самого низа был увешан орденами и медалями.
Взявшись за руки, мы с ним пошли на остановку. Долго ждать транспорт не пришлось. А в Михайловке возле обелиска народу – как в муравейнике. По громкоговорителю звучали военные марши. Из всех деревень нашего колхоза собрались люди, пришли оставшиеся в живых и ещё могущие ходить ветераны войны. Дед Ахмадулла высокий, горбоносый, кудрявый, шёл, улыбаясь, кивая знакомым по пути. Мол, здравствуйте, как дела?.. Я гордо шагал с ним рядом. А ордена и медали деда бренчали над моим ухом...
После доклада председателя колхоза и секретаря парткома к обелиску попросили выйти моего деда. Парторг сказал,что в архивах были затеряны бумаги, а вот теперь награда его нашла. «Ну, Ахмадулла, скажи что-нибудь. Не каждый день получаешь Орден Славы». Ну, дед тут и ляпнул: «Ты к ордену еще пять рублей бы приложил, было бы здорово». Все люди расхохотались. «Ладно, всё. Спускайся», – и деда спровадили с бетонной плиты вниз, к людям.
Долго мы там не задержались. По пути нас подвезли до самого нашего дома. Мой отец в честь такого случая поставил на стол бутылку водки с сургучной пробкой. А утром мы с папой отвезли дедушку к нему домой на мотоцикле «Урал». При моём отце вредная бабушка на деда не ругалась.
МОКША
Дед Ахмадулла вспоминал:
«После Москвы мы научились воевать. Вот что я не люблю, так это копать окопы – каждый день окопы рыть, земля то мерзлая, то каменистая, то одна слякоть, то глина, и лезь потом в эту грязь. Мой помощник, мукша (мокша – этническая группа мордвы. Ред.) по национальности, слабый и худой. «Максимку» я таскал один, он просто мешал, поэтому он носил патроны, ленты к пулемету.
Или я был заговоренный, или мне Аллах помогал, но ни меня, ни мукшу не ранило ни разу, а пулеметчиков убивало в первую очередь. Мукша хвостом бегал за мной, я часто менял позиции. Ранило меня, когда мы с напарником побежали за водой, в воронке от немецкой бомбы собралась грязная вода. Мы в свои котелки набрали воды и побежали к «максиму».
Немецкий самолет низко летел и дал по нам очередь. Пуля выдернула чеку гранаты на моем поясе, я успел её выкинуть. Она взорвалась в нескольких метрах. Меня в медсанбат, мукше хоть бы что. Долго не лежал. Как искупивших кровью, меня и мукшу перевели из штрафбата в стрелковую роту. Так с ним дошли до Берлина. К концу войны он стал выше ростом и растолстел, ел он за двоих, без единого ранения. Может не я, может он меня спас, где интересно он сейчас?»
ВЕНГЕРСКОЕ МОЛОКО
Дед Ахмадулла вспоминал:
«С боями мы освободили Украину, Белоруссию, Польшу и подошли к Будапешту Очень красивый город. Я такого города никогда не видел раньше. Было временное перемирие, стрелять нельзя. А нам что? Кушать дают, махорка есть, что еще надо?! Мы расположились возле большого коровника. Коровы не выдоенные, наверно, несколько дней, они не мычат, орут. Командир выстроил наше отделение и спросил: «Кто умеет доить корову?»
Я вышел из строя. Кашевар дал мне чисто вымытое ведро. А коровы стоят тут буквально в ста метрах от нас за забором. Я подхожу к ним. Вот это коровы! Они раза в три больше наших, жирные, у каждой вымя – во! У нас таких в деревне нет. Больше ведра можно выдоить от каждой.
Я легко перелез через забор. Ух ты! У коров из сосков течет молоко. При виде ведра они меня чуть не сдавили. Давай, мол, меня подои, нет меня, уй Аллам! Я положил рядом с собой свой автомат «ППШ» и начал доить. Пальцы устали, и я на минутку остановил дойку. Слышу, что кто-то рядом со мной тоже доит корову. Наклонился под выменем коровы, а там рядом со мной, тоже на корточках, сидит и доит корову немец! Он смотрит из-под коровы на меня, а я на него. Я схватился за «ППШ», а он нет. Приказа стрелять не было. Пришлось положить автомат на место.'
И я, и немец надоили полные ведра молока. И ушли, он к своим, я к своим. Через два дня мы город освободили, а коровы так и остались жевать грубую солому».
Присоединяйтесь к журналу "Панорама Башкортостана"
во "Вконтакте": vk.com/bashpanoramamagazine
в "Одноклассниках": ok.ru/zhurnalpan
Подписывайтесь на канал журнала «Панорама Башкортостана» в «Яндекс Дзен»
Новости партнеров